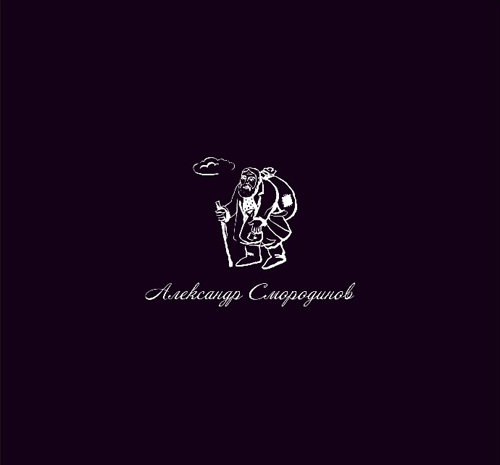
Орловский художник-монументалист Александр СМОРОДИНОВ:
путь искателя и отшельника
... Есть люди, с которыми
необязательно проводить часы и дни,
которые появляются в нашей жизни как бы мимоходом,
но оставляют в ней свет – СВЕТ СВОЕГО ТАЛАНТА...
О художнике-монументалисте Александре Смородинове мне впервые случилось услышать от друзей-художников. В нашем сознании он слыл загадочной личностью. Сын офицера-дальневосточника, отличник-авиамоделист, член Санкт-Петербургского Союза художников, затворившийся в своей орловской мастерской, связав навсегда свою жизнь с небом и искусством.
Случалось не раз заходить морозным зимним утром в Троице-Васильевскую церковь, где под потолком на самом верху лесов из-под кисти мастера рождались образы святых в светоносных праздничных одеждах, степенно и величаво шествующих в рай в лучах золотистого света. О мастере изредка упоминали в местной прессе, говорили о его путешествиях по старинным русским городам, об образах его письма. Им был выполнен ряд икон по заказу клирика петербургского храма Спаса на крови и икона Божией Матери Знамение Курская-Коренная, ранее размещавшаяся над входом в орловскую одноименную часовню, а также частные заказы.
Тогда в 2007 г. Александр был уже очень болен, и было понятно, что он скоро уйдет. Но при всей тяжести своей ситуации, в высказываниях он был внимателен к близким, делился творческими планами о храмовой росписи, сетовал, что мало времени остается, что не всегда понятен его замысел окружающим, жил мечтой о паломничестве в Святую Землю и поездках в художественные музеи Европы. Он мало говорил открыто о Боге, о молитве, о таинствах. Как вспоминает его друг, петербургский художник Иван Несветайло: «Еще в 1980-е гг. Смородинов всерьез интересовался, каким образом Евхаристия и, в частности, литургические песнопения взаимодействуют с каноническим рядом изображений в храме. То было очень важно потому, что нам тогда было примерно лет по тридцать, и мы были вынужденными атеистами, но мы пытались постичь целиком философию храмового действа». Именно после ВУЗовской практики в Ферапонтово для Смородинова общение с Богом стало сугубо личным и исповедным. Это чувство было ярким – не на словах, а на своем языке мастера – гораздо глубже, чем у массы представителей демонстративно «воцерковленной» публики. В его монументальном искусстве звучат и молитва, и проповедь, и таинство незримого причащения Слову Божию, и тихое умиление. Его искусство – это сама жизнь, одушевленная тем видением, которое было дано нашему праотцу Адаму в Эдемском саду. Это яркое впечатление первозданности и чистоты красок незапятнанного грехом мира Александр Смородинов воплотил в росписи орловского Троице-Васильевского храма и серии живописных полотен, посвященных Горнему Иерусалиму.
Смородинов Александр Викторович родился 9 августа 1955 г. По удивительному стечению обстоятельств он появился на свет в один день с великим маэстро живописи Ильей Ефимовичем Репиным. Александр с юности был одарен харизмой и неуемной пламенной энергией, выделявшими его среди многих сверстников. Детство Смородинова прошло в летном городке, где его отец служил военным инженером. Переехав в Орел, Александр увлеченно занимался авиамодельным спортом, побеждая в ряде соревнований, не забывая посещать занятия в Детской художественной школе № 1. Получив аттестат, поступал в летное училище в Рязань, однако не прошел по состоянию здоровья. Упорно добиваясь цели, Смородинов, прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках, в знаменитой Псковской десантной дивизии. Ему потребовалось два года, чтобы принять решение, что военная карьера не для него, а его призвание - искусство.
Вернувшись из армии, он окончил Орловское художественное училище по специальности художественное оформление. Затем продолжил образование в ЛВХПУ им. В.И.Мухиной (сейчас Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица). Любимым его преподавателем был В.Г.Леканов, уроженец Вологодской области, прививший интерес учеников к фрескам северорусских монастырей. Под его руководством Смородинов постигал основы древнерусской иконописи и настенной росписи, в частности, на практике изучал и копировал фрески монастырских храмов во Псковской и Вологодской областях. Удивительная симфония красок псковских и ферапонтовских мастеров отложила отпечаток на все его дальнейшее творчество.
После распада Советского союза и отсутствия спроса на монументальную живопись его профессия оказалась невостребованной. Но вернувшись в Орел, мастер нашел себя в станковой живописи. Именно в тяжелый для всех период 1990-х гг. Смородинов вырабатывает стратегию жизни, раскрываясь как сильная творческая личность. Он оказался новатором-мыслителем с ярко выраженной нонконформистской направленностью. Его мнение не зависело ни от кого, и ни от каких обстоятельств, кроме его христианских убеждений. Независимый, оригинальный, очень чувствительный, иногда слишком эмоциональный он смог создать свой стиль и выработать узнаваемую знаковую систему. Александр Смородинов оставил огромное наследие, богатое живописными полотнами и графическими работами, отличающимися широким тематическим и жанровым спектром, сюжеты которых он черпал из своего неуемного воображения, подстегнутого средневековыми сказаниями об иконах, агиографической литературой и путешествиями по центрам древнерусской культуры.
Его произведения полны сложных знаковых комплексов, объединяющих как художественные, так и религиозные символы, воспринятые через призму иконографических и стенописных произведений Древней Руси, а также через европейское искусство и историю XX в. Действие композиций часто происходит на фоне расположенных на высоких холмах древних городов-лабиринтов плотной застройки и храмов. Эти архитектурные кулисы напоминают знакомые силуэты псковской, отчасти новгородской и вологодской архитектуры, знакомой мастеру по ежегодной институтской практике. В небе над храмами парят ангелы. Часть из этих небесных существ спускается на развалины православных городов, символизируя начало их восстановления. По земле ходит Богоматерь с Христом-Младенцем и святые. В сопровождении ангелов-хранителей обходят просторы российских окраин путники-праведники, воодушевленные ими художники и зодчие творят прекрасное. В этот спокойный и умиротворенный космос вторгаются хаотичные толпы «нерадивых» персонажей - брошенных поверженной системой болящих людей, которых направляет все тот же Ильич со своего пьедестала. От их деяний становится «на дыбы» земля. Страшных персонажей сопровождают бесы - воплощения человеческих грехов, которые приобретают очертания механических роботоподобных чудовищ. Но Архангел разящей стрелой повергает их обратно в небытие.
Во всем многообразии отвлеченных образов темы, затрагиваемые Смородиновым ультрасовременны. Это и душевная тоска человека переходного периода от «перестройки-перестрелки» к настоящему (не случайна надпись на одном из листов «На рубеже»), человека, воспитанного на антирелигиозных ценностях советского пространства, свидетеля краха бездуховной системы и постепенного возрождения вечных ценностей христианства, приспособления к ним одних, искренняя вера других и погибель третьих. Нескрываемая боль мастера, современника событий ясно прослеживается в часто включаемой аллюзии к евангельскому чуду о рыбах и хлебах, накормивших тысячи человек. Еле теплящуюся душу растерзанной России символизирует пламя свечи с надписью «Существо» со светоносными ликами вокруг. Среди страшных темных личин и масок (с надписями «лукавый», «гнус», «плесень», «хищники») в ряде работ проступает надпись-призыв - «Человеческое существо сохранить».
Особое место Смородинов уделял серии живописных работ, выполненных в технике акварели. Мастер так отзывался о своем творчестве: «Акварель для автора - способ выражения настроения в данный момент. Это своего рода импровизация, помогающая раскрыть свой многогранный внутренний мир. Каждая работа делается на одном дыхании и отражает внутреннее состояние автора в данный конкретный момент этого изменчивого и противоречивого времени. Акварель, это и синева неба, и бескрайность просторов, теплота встречи и грусть расставания. Акварель - это целый мир чувств с его многогранностью и бесконечностью познания!». В этой серии мастер, обращаясь к самым знакомым символам христианской культуры (иконы, храмовые купола, источник света, радуга в листах «За веру», «Ангел над городом», «Горит свеча») показывает минимальными средствами преображенное молитвой состояние человеческой души. Присущая Александру Викторовичу высокая эмоциональность и чувствительность позволила ему показать всю притягательность Горнего мира.
В работах Смородинова – глубокий философский подтекст, психологичность образов сочетаются с мощным потоком энергии, великолепным решением пластических и цветовых задач. Вечные темы добра и зла, одиночества и трагического начала, тема любви и ее недостатка находят отражение в его полотнах. Библейские персонажи, отшельники и отверженные, преследуемые толпой, странники и беженцы – все те, кто так или иначе противопоставил себя массе в силу стремления к Иному, в силу немощи или непонимания толпы становятся героями его полотен.
Одной из самых любимых работ Александра Смородинова был его «Старичок-отшельник». На картине небольшого формата на фоне бескрайнего бледно-голубого неба с легкими белыми облачками, высоту которого подчеркивает низкий горизонт, изображен мирно шествующий седовласый сгорбленный старик с белой бородой, опирающийся на посох. За его спиной торба с заплаткой, стянутая бечевкой, на ногах стоптанные лапти. Небесная синева отражается во всех деталях композиции, усиливая звучание чистых светлых красок. Вероятно, Александру был близок этот мудрый отшельник и искатель, занятый бесконечным поиском истины, вынужденный пребывать в уединении и тишине. Не случайно мастер посвятил образу отшельника несколько произведений.
Все работы Смородинова, не смотря на современный подтекст, несут следы ретроспекции, связанные с культом «своей старины» и обращением к памятникам древнерусского искусства XIII-XV вв., потрясших воображение мастера со времени прохождения практик во Пскове (росписи Мирожского, Святогорского, Снетогорского монастырей, Успенского храма в Мелётово). В его произведениях содержится несколько десятков сугубо «псковских» знаков (это узнаваемые Троицкий собор и церкви Успения с Пароменья, Богоявления с Запсковья, Покрова и Рождества, что в Углу, Георгия со Взвоза, Воскресенская, Покровская, Плоская башни Псковского кремля на картинах «Малиновый звон», «Вечер», «Ангелы над городом», «Вечерня», «Шествие», «Пасха» и др.). Именно из псковских росписей, возможно, происходят характерные для работ Смородинова земные, коренастые, несколько приземистые персонажи. Здесь мастер расходится с дионисиевскими вытянутыми, почти бесплотными силуэтами святых, населяющих мир Горний, райский. Мастера интересует жизнь здесь, на Земле и ее будущее. Александр соприсутствует всеми композициями в нашем настоящем. И язык искусства, как язык Закона и Благодати, используется художником для проповеди и наставления живущим.
Колористическое построение, избранное Смородиновым, восходит, как кажется на первый взгляд, к началу XX в., в частности, к творчеству художников "Бубнового валета" (П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, В. В. Рождественский, Р. Р. Фальк и др.), для которых характерны живописно-пластического искания в духе творчества П. Сезанна. Угадываются аллюзии к композициям Лентулова и Куприна в ряде работ Александра («Святая Русь», «Звенигород» и др.). Но Смородинов выходит за пределы этого направления своей расположенностью к символизму знака и цвета, в конце пути приближаясь к традициям русского ренессанса XV в, к которому стремились все мастера-иконники после постановлений Стоглавого Собора 1551 г. Отсюда происходит его умение писать наполненными светом яркими красками, отражающими представление о проявлении Бога в этом мире в виде Божественных энергий, достигать тонкого баланса хроматических и ахроматических цветов, добиваться колористического многообразия путем варьирования и повторения одной и той же цветовой «темы» и обобщенной «живописной» манеры рисования. В этих приемах видится связь именно со средневековой монументальной живописью, в частности, с фресками и иконами из Ферапонтова монастыря. Именно оттуда Смородинов воспринял прозрачные оттенки уже потревоженных временем серых цветов палитры Дионисия, стремящихся к голубым, сложный розово-коралловый в сочетании с темно-оливковым в личном письме, обилие оттенков охр, собранных по берегам Бородавского озера. Ему был нужен этот колористический прием как художнику-мыслителю, старающемуся придать своим работам ощущение видения, тонкого сна, особого исторически важного времени, скрытого за завесой прожитых лет. Ряд произведений включают целые цитаты из «дионисиевского» иконописного и фрескового наследия (Архангел Гавриил из деисуса Богородице-Рожественского храма в Ферапонтово на картине «Ангел последний»; фреска «О тебе радуется» в Троице-Васильевском храме).
В целом творчество Александра Смородинова отличает кровное родство с прогрессивными традициями русского искусства и идей XX в. В тоже время, он воспитывался на лучших образцах отечественной и, в особенности, древнерусской и византийской монументальной живописи. В части развития живописно-пластического языка и системы образов Смородинова отличала приверженность традиционализму, ориентация на общие для русского искусства ценности, но проведенные силой таланта мастера сквозь горнило «лихих 1990-х». Опираясь на богатейшие собственные источники развития и унаследованные традиции, почти не подвергаясь сторонним влияниям, соединяя современное с классическим Смородинов нашел удивительно точную формулу для выражения вечных ценностей, которые не могут быть отринуты даже в период всеобщей смуты. Это отразилось в аллюзиях к евангельской истории, в приверженности языку символизма при изображении современных событий. В проповедуемых Александром Смородиновым идеях добра и красоты, в выраженной национальной основе, в высокой культуре и ясности художественного языка традиционность его искусства является актуальной, уже на данном этапе создавая широкий простор для рассуждений о его творчестве.
кандидат искусствоведения,
эксперт по художественным
ценностям Росохранкультуры









































