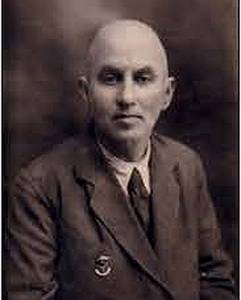Светлана Федоровна Членова. Публикация, подготовка текста, вступление,
примечания к воспоминаниям Н.А. Дмитриевой «В Моршанске».
Н. А. Дмитриева Автопортрет, конец 50-х, карандаш, бумага
Воспоминания Н.А. Дмитриевой (24.04 1917—21.02 2003) «В Моршанске» были обнаружены после ее ухода в папке с надписью «Сохранить!» среди других неизданных мемуарных и художественных рукописей. Именно этот текст, охватывающий около семидесяти лет, начиная с идиллического моршанского детства до перестройки, и был выбран нами для публикации к дню памяти Нины Александровны Дмитриевой.
В жизни Н.А. Дмитриевой Моршанск и его окрестности занимают очень важное место: там она родилась и провела немало дней -- с трёх лет до поступления в ИФЛИ -- у своих «крёстных» (тёти Кати, маминой сестры, учительницы, и дяди Коли, ее мужа, знаменитого детского врача Н. Н. Зимина), принадлежавших к старой земской интеллигенции; к ним же в первые дни войны, прервав обучение в аспирантуре, она с маленьким сыном уехала в эвакуацию в Моршанск, преподавала там литературу в «Учительском институте», встретив среди коллег человека (также эвакуировавшегося из Москвы), ставшего самым главным в ее жизни; ежегодно продолжала она и после войны до середины 60-х, ездить к крёстным, в их дом на Лотиковской улице (которая даже короткое время носила имя Н.Н. Зимина, основателя детской медицины в Моршанске).
Крёстные родители сыграли неоценимую роль в формировании Н.А. Дмитриевой: их отличало несокрушимое человеколюбие, доброта и милосердие, они и «в своем атеизме оставались христианами» --заботиться о других было потребностью их души. Этот текст, по признанию в нем же автора, – «поминки по дорогим ушедшим близким».
Публикуется впервые. Подготовка текста, вступление, примечания Светланы Федоровны Членовой. Сохраняется авторское написание и пунктуация, но опускаются значительные фрагменты, в первую очередь, те где речь идет о ныне живущих или живших тогда, когда текст писался (предположительно, между 1988 и 1994 гг.).
В МОРШАНСКЕ
В моем паспорте написано, что я родилась в городе Зарайске, но это неправильно: родилась я в селе Богоявленском Тамбовской области, в просторечии называвшемся Кобелек. Крестили меня мамина сестра Екатерина Васильевна и ее муж Николай Николаевич Зимин. По христианской традиции крестные как бы запасные родители, при надобности заменяющие ребенку отца и мать, хотя у меня такой надобности не случалось, мои крестные всегда были для меня второй семьей.
Николай Николаевич[1], специалист по детским болезням, служил в земстве. Земства упразднены Советской властью в 1918 году, значит в год моего рождения он еще был земским врачом. Екатерина Васильевна[2], так же как моя мама, воспитывалась в Институте благородных девиц. Познакомились они еще в начале века, в Зарайске. Тетя Катя, Катюша, как ее все называли, потом вспоминала словами из письма пушкинской Татьяны: «он чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала, и в мыслях молвила: вот он!» И так оно и продолжалось почти 60 лет - до смерти Николая Николаевича. Другого такого согласного супружества я больше никогда не встречала. Если и случались у них размолвки, ни я, ни, думаю, никто другой, свидетелями их не были; я ни разу не слышала, чтобы они сказали друг другу не то что грубое, а хотя бы неприветливое слово. Барометр всегда стоял на «ясно». После первой мировой войны, когда Николай Николаевич был на фронте, они не разлучались даже на короткое время, если куда ездили, то вместе. Впрочем, ездили мало: Николай Николаевич был убежденный домосед, а тетя Катя втихомолку мечтала попутешествовать, но образ жизни определял он. После женитьбы он работал в степном Заволжье, потом перебрался в Богоявленское, где родились их дети, потом поблизости в Дашково и в 1924 или 1925 году (за точность не ручаюсь) -- в Моршанске, и там обосновался до конца дней.
Мама привозила меня с малых лет в Дашково, но того дома и окрестностей я не помню, помню только своих двоюродных брата и сестру -- Толю и Валю, их няню Плеку. Валя и Толя учились чтению и письму дома, и я пристраивалась с ними за столом. Им было тогда одной восемь, другому семь лет, а мне три года. Мне уже потом рассказывали, что я начала читать одновременно с ними, а у меня эти занятия из памяти стерлись, поэтому я не помню себя не умеющей читать и мне кажется, что я читала всегда. Еще года через три-четыре мы стали выпускать домашнюю газету «Для смеха», где я считалась редактором. Рисовали и писали в газете и дети, и тетя Катя и даже Плека. Когда Валя с Толей подросли, их отправили учиться в Москву, в школу при биостанции, под присмотром другой маминой сестры Ольги Васильевны[3], которая в этой школе преподавала. Жили они в общежитии, а к родителям -- уже в Моршанск -- приезжали летом. И тетя Оля наведывалась, и еще многие родственники, и все чувствовали себя там как дома.
Моршанск вероятно переживал свою лучшую пору в «серебряном веке», когда там служил полицмейстером родной брат Г. В. Плеханова, но и во времена нэпа это еще был приличный культурный городок, соединявший признаки городской и полусельской жизни. В полноводной чистой Цне жители купались и катались на лодках, на берегу высился величественный собор вроде петербургского Исаакия; был прекрасный городской сад с музыкой и помещение театра, где часто гастролировали приезжие труппы, и мы не пропускали ни одного спектакля. Был очень недурной музей, созданный уже после революции Петром Петровичем Ивановым[4], одним из тех бескорыстных энтузиастов, на которых земля держится: он собрал там картины, фарфор, гобелены, иконы из реквизированного имущества Дашковых и других окрестных усадеб, а также и древности из раскопок, которые сам и организовывал. Близ Моршанска, в Крюкове, он раскопал целое неолитическое поселение, нашел там, кроме стрел и орудий, остатки скелета мамонта. Этого человека все знали в Моршанске. Он был бородат, с большим орлиным носом, носил очки, ходил в лаптях. <…>
Были в Моршанске и учебные заведения, в том числе учительский институт, где я во время войны работала, медицинское училище. Еще сохранялся слой старой земской интеллигенции, особенно много врачей -- все были знакомы домами, иногда устраивали вечера с музицированием. Помню, как доктор Свинцов играл на скрипке.
Моршанскую лечебницу местные шутники называли «дом братьев Зиминых», -- кроме дяди Коли там работал его брат Петр Николаевич[5], гинеколог, и двоюродный брат Михаил Васильевич[6], впоследствии репрессированный. Старший брат Алексей Николаевич[7], тоже врач, жил в Томске и пользовался там известностью, как ученый -- к его сколько-то-летию в Томске издали посвященный ему сборник статей по медицине. Еще три сестры проживали в Москве, две из них были замужем за двумя братьями Сперантовыми, тоже в свое время арестованными. Но это происходило позже.
Переехав из Дашкова в Моршанск, дядя Коля приобрел дом на Лотиковской улице -- одноэтажный, деревянный, как почти все моршанские дома, очень ладный: четыре комнаты, огромная кухня с русской печью и даже ванная, топившаяся, конечно, дровами. Первое время Зимины занимали его весь, года через два-три продали половину дома знакомому врачу с женой и маленькой дочкой.
Я любила этот дом и особенно сад. Небольшой, но очень ухоженный сад: хозяева занимались им с любовью и знанием дела, даже выписывали пособия и каталоги по цветоводству. Вспоминаю клумбы левкоев, лиловых и белых, душистого табака, львиного зева с бордюрами из скромной по виду, но чудесно благоухающей резеды, голубой лобелии, анютиных глазок. Ближе к осени распускались махровые георгины разных колеров, некоторые темнокрасные, почти черные. Я ночевала чаще всего в беседке и цветочные ароматы проникали в мои сны. Ночью при луне все цветы казались белыми. А еще птицы, они жили в клетке -- но что это была за клетка! величиной с хороший шкаф. Она стояла в большой комнате, щеглы, чижи и зяблики свободно по ней летали. Я меняла им воду, насыпала корм. За ними можно было без устали наблюдать. Какое-то свое наблюдение -- совсем не помню, какое -- я, вернувшись в Москву, изложила письменно и послала в «Мурзилкину газету», приложение к журналу «Мурзилка». В один прекрасный день пришло письмо: «В таком-то номере Мурзилкиной газеты помещена твоя заметка. Авторский экземпляр тебе выслан». Я хранила этот авторский экземпляр, но потом он куда-то пропал, как все пропадает. Если не ошибаюсь, это было в 1924 году -- мое первое выступление в печати.
С тех пор, за всю длинную жизнь, у меня никогда не было ни своего сада, ни птиц. Но вот я их помню. Жаль только, что не воссоздается в памяти запах цветов, можно живо представить виденное, слышанное, даже осязательные и вкусовые ощущения, но не запахи. Запах, конечно, узнается, если его услышать, но силой воображения его ощутить нельзя, по крайней мере у меня не получается. Остается впечатление от аромата, но не он сам.
В последние годы, может быть десятилетия, цветы пахнут гораздо слабее, чем прежде. Знаю, что у меня сильно ухудшилось обоняние, но дело не только во мне: я проверяла и на других. Разве так пахли раньше черемуха, сирень, жасмин, разве так благоухали цветущие липы? -- когда-то их запах пропитывал весь воздух в округе, опьянял, одурял, теперь едва слышен. Оттого и мед теряет душистость. Должно быть ароматы первыми покидают нашу затравленную землю. Только белые лилии еще стойко сопротивляются.
Можно бы вспомнить и о водяных лилиях с длинными-длинными гибкими стеблями, из которых мы делали ожерелья, о постоянных поездках на лодке, о том, как дядя Коля ловил сомов на блесну и мало ли еще о чем. Но ограничусь домом на Лотиковской. Там были особенно для меня завлекательные вещи: свалка старых книг на вышке и граммофон. Вышка -- надстройка над дровяным сараем, куда взбирались по наружной крутой лестнице. Там было довольно просторное чердачное помещение, удобное для ночевки бесчисленных гостей, а в отдельном отсеке хранились книжные завалы. Видимо, потрепанные и пожелтевшие сочинения знаменитых писателей -- приложения к «Ниве», дореволюционные журналы «Пробуждение», «Аргус», и детские -- «Светлячок», «Задушевное слово». Когда-то эти издания выписывали, собирали, а потом сослали на вышку на съедение мышам; кроме меня к ним, кажется, никто уже не прикасался. Видимо, для моих крестных родителей они были остатками того старого мира, от которого они после семнадцатого года волей-неволей отреклись и отрясли его прах. Беречь старину тогда было не только не модно, но чуть ли не контрреволюционно. Мне же эти «остатки разбитого вдребезги» доставляли огромное удовольствие -- даже просто перебирать их, стряхивая пыль, и то было приятно. Сначала я читала «Светлячок» и «Задушевное слово», в каком-то из них печаталась из номера в номер повесть о королевстве игрушек -- оно мне даже снилась во сне.
Из стихов до сих пор помню: «Я бедный маленький Дуду, печальный арлекин, гляжу в окошко на звезду, один, совсем один» (автора забыла)[8]. Издавал «Задушевное слово» (или «Светлячок»?) детский писатель А. Федоров-Давыдов[9], отец известного искусствоведа. В начале 20-х гг. искусствовед Федоров-Давыдов[10], тогда совсем молодой, поместил в газете объявление, что отрекается от своего отца, как представителя буржуазии: так было принято -- отрекаться. Но, кажется, Алексей Александрович поторопился, -- отец его продолжал работать и в советской литературе, напечатал книжку о пионере Пете и его собаке Мурзилке, откуда, очевидно, и произошло название нового журнала для детей.
Производя из года в год раскопки на вышке, я постепенно переключалась на взрослую литературу, прочитала почти все приложения к «Ниве» и кое-что увезла в Москву. Тут были как раз такие авторы, которых потом много лет не переиздавали -- Бунин, Леонид Андреев, Метерлинк, Оскар Уайльд. Мне повезло -- я познакомилась с ними еще в отрочестве. Поступив в ИФЛИ, я стала реже ездить в Моршанск, не каждое лето, и однажды, приехав, с огорчением обнаружила перемену: вышка сломана и нет старых книг -- их сдали в макулатуру.
Дольше прожила другая реликвия -- граммофон с широким раструбом. Его довольно часто заводили, у него был хороший чистый звук, -- лучше, чем у пришедших на смену патефонов. Неповрежденными оставались и пластинки: Варя Панина[11], Вяльцева[12], всяческая цыганщина; сладчайший тенор Сабинин[13] (не Собинов, а Сабинин) пел романсы «Мурочка-Манюрочка», «Комнатку нашу я вновь увидал» -- хорошо помню эти чувствительные мелодии и как наяву слышу лихие «Колокольчики» в исполнении Вяльцевой.
Не могу простить тете Кате, что она отдала все эти пластинки вместе с граммофоном какой-то женщине, которая приходила к ней стирать белье. Отдала просто так, -- после смерти Николая Николаевича, где-то в начале шестидесятых. Тогда «старина» уже пользовалась спросом, старые пластинки ценились, и она, если уж решила с ними расстаться, могла бы получить за них солидную сумму, но это ей не приходило в голову. Она была порядочная чудачка, моя тетя Катя. Я скажу о ней дальше, но сначала -- об ее единственном спутнике.
Николай Николаич был врач старого закала. Он, по-видимому, не имел опыта обращения с новейшей медицинской аппаратурой (которой, впрочем, и не было в Моршанске), в диагностике полагался не столько на анализы крови и прочего, без чего современные врачи как без рук, сколько на собственное чутье, приобретенное многолетней практикой. Его, как теперь сказали бы, рейтинг был очень высок и в городе, и в окрестных селах. Ребят к нему свозили отовсюду, он принимал и в поликлинике, и на дому, и сам ездил на велосипеде к больным. Иногда за ним приезжали из деревни на лошадях: «Миколай Миколаич, сделай милость поедем, малой шибко расхворался». Такое случалось и ночью, -- тетя Катя будила мужа, он беспрекословно поднимался и залезал на телегу. Хотя собственное его здоровье было неважно, он глотал валидол, был чрезмерно тучен, но никогда не отказывался ехать к больному ребенку, хоть за много верст. Я как-то сказала тете Кате: что же это он не побережет себя? Она ответила: «Ему нельзя, он клятву давал». За визиты ему редко платили деньгами, больше натурой - когда яичек, когда курочку. Он брал, а если ничего не давали, то и не спрашивал, и это никак не отражалось на его отношении к больным. Клятва Гиппократа для него не была формальностью.
Он происходил из духовного сословия -- священниками были и его отец, и дед, -- но сам твердо стоял на почве материализма с медицинским специфическим оттенком: души нет, а есть электричество, нравственности нет, а есть условные рефлексы. При этом был нравствен до умопомрачения: не пил, не курил, не ругался, даже голоса никогда не повышал, и, как я думаю, никогда не изменял жене (о ней и говорить не приходится). Единственными его пристрастиями были рыбная ловля и цветоводство. Вся сфера сексуальных отношений в их доме была строго табуирована: о ней не произносилось ни слова, как будто подобных вещей вовсе не существует, а детей приносят аисты. Как бы в возмещение, дядя Коля охотно отпускал мало приличные шуточки относительно желудочно-кишечных отправлений, -- тут он не стеснялся, тема «сидения на горшке» обыгрывалась вовсю в разговорах с младшим поколением и в нашей самодельной газете «Для смеха» выходила на первый план. Но анекдоты и скабрезности эротического рода начисто исключались. И такое же табу соблюдалось в семье Петра Николаевича -- а ведь он был гинеколог по профессии. Может быть этот целомудренный стиль братья Зимины усвоили еще в родительском доме и сохранили его, отказавшись от главного -- веры в Бога? Хотя -- как сказать? -- пожалуй они остались христианами и в своем атеизме: христианские заповеди были у них в крови.
В послании апостола Иоанна сказано, что нельзя любить Бога, не любя своих ближних. А можно ли обратное: любить ближних, не любя и не зная Бога? Наверно да, но все же в безбожном человеколюбии есть какая-то духовная ущербность. Если людской род не причастен Вечному началу, если все скопище индивидов -- только пузыри земли, мгновенно лопающиеся, к тому же исполненные тупости и злобы, -- то как этим эфемеридам возлюбить друг друга, за что возлюбить? Для них естественнее истреблять друг друга (умри раньше ты, а я потом), что они и делают с большой охотой. Сдерживает только бессознательная интуиция добра, не оправданная разумом, а потому неустойчивая и непросветленная. Как та крестьянка, о которой рассказано в романе Василия Гроссмана: сама не зная почему и сама на себя удивляясь, она спасла раненого немца-оккупанта, который только что бесчинствовал в ее доме.
Молодая соседка Зиминых в годы войны работала в моршанском госпитале, там лежали и наши раненые, и немецкие. Она с удивлением говорила, что за немцами такой же уход, как за нашими: не могла этого понять. <…>
Доктор Зимин в госпитале не работал, но детей лечил как всегда безотказно, хотя ему было за шестьдесят и жизнь стала тяжела. Каждый день он взгромождался на свой старенький велосипед и ехал в поликлинику или с частными визитами по разбитым мостовым, покрытым ухабами, лужами и повсюду нарытыми ямами (они изображали собой «убежища»). Тетя Катя, как и до войны, преподавала в школе, ездила с учениками на всякие сельскохозяйственные работы, зимой мерзла в нетопленых классах, и как-то успевала все делать по дому, включая заботу о приезжавших эвакуированных родственниках. Даже сад не был запущен. Я приехала в Моршанск со своим младенцем в августе 1941 года, и первое, что меня поразило -- сад: в тот роковой год он пламенел алыми маками. Первые дни я жила у них, но вскоре приехала их дочь Валя с двумя маленькими детьми, а я сняла комнатку у Петра Николаевича Зимина, там и прожила два с половиной года, памятные годы! К своим на Лотиковскую я постоянно заходила, по воскресеньям у них обедала. За обедом ели «геройскую лапшу»: целый мешок лапши отвалил Николаю Николаевичу местный герой Советского Союза за излечение его ребенка. Эта лапша очень выручала, да еще было натуральное кофе, тоже кем-то преподнесенное в уплату; правда, пили его без сахара. В самые лихие годы дом оставался радушным, теплым, уютным.
B 1944 году умерла Плека. Ей было 80 лет, из них тридцать она прожила в семье Зиминых, как свой близкий человек. О своей прежней, деревенской жизни она и не поминала; кажется, у нее никогда не было детей. До 50 лет она была неграмотна, а у Зиминых пристрастилась к чтению: после трудового дня садилась на. скамеечку в ванной, читала газету и курила трубку. В Плеке была какая-то неизменность, прочность: мне казалось, что она всегда была и всегда будет все такой же маленькой старушкой с седым пучком, деятельной, заботливой, в меру ворчливой, азартно играющей в подкидные дураки. Перед смертью она проболела всего три дня. Мне как раз в это время прислали вызов из Москвы и Плека уже на смертном одре беспокоилась: как-то Нина поедет, достанет ли билет. Тогда все было трудно достать -- и билет, и гроб. Плекин гроб везла на кладбище заморенная лошаденка, которую мы с моей двоюродной сестрой тащили под уздцы. Справили поминки, и тетя Катя грустно пошутила: «Но вот только теперь я начинаю самостоятельную жизнь».
Она подарила мне на память о Плеке ее Евангелие; оно и сейчас у меня. На нем надпись: «Елисееву Борису Петрову, окончившему курс в 1-м Салтыковском училище 5-го мая 1912 г.» (Борис Елисеев -- племянник Плеки). В этом издании я впервые в жизни -- а мне было уже 26 лет - прочитала текст Нового Завета.
Смерть Плеки была самой тяжелой потерей для Зиминых в военные годы. Их сын Анатолий всю войну провел на фронте, а перед этим еще и на финской войне, но по счастливому везению ни разу не был даже ранен. И еще несколько лет они жили попрежнему (орфография Н.А. Дмитриевой –С.Ч.). Только в 1956 году Николай Николаевич заболел. Сделали ему операцию не совсем удачно, пришлось делать вторично. Последние три года жизни он медленно сходил на-нет. Часто повторял, как бы извиняясь: «Голова-то у меня еще ничего, работает, а вот сил не хватает». <…>
Даже и в это время бабы таскали к нему детей, оправдываясь: «кроме Миколай Миколаича никому не верю». И он, едва живой, с помощью тети Кати поднимался и брел осматривать ребенка. «Условный рефлекс» у него срабатывал.
Тете Кате хворать было некогда. В семьдесят с лишним лет она попрежнему была быстрая, бесшумная, все успевающая. Николай Николаевич стал теперь ее ребенком <…>
Николай Николаевич умер в декабре 1959 года, при его кончине не было никого из близких, кроме жены. Но похороны были многолюдные и с музыкой.
Я приехала уже после похорон.
Трудно было представить, как она сможет жить без него. Но – смогла, и пережила мужа почти на 20 лет. Разлуку с мужем она приняла покорно, -- можно бы сказать, с христианским смирением, если бы она не была такой же непоколебимой атеисткой, как он.
Летом я снова приехала в Моршанск, и мы с тетей Катей много гуляли, ходили в лес. Однажды так загулялись, что не заметили, как вечер наступил, и я сказала: ну ничего, ведь нас дома никто не ждет. Сказала и испугалась. Но тетя Катя отозвалась спокойно: «Да, ведь и правда никто не ждет, -- как хорошо». Слово «хорошо» у нее вырвалось непроизвольно, а я вспомнила японское стихотворение «… и я не тороплюсь – ведь больше нет тебя, никто меня не ждет с тревогой и тоской».
Очарование одинокой свободы Екатерина Васильевна почувствовала, несмотря на свои 75 лет. Она была отроду любознательна, ей всегда хотелось повидать новые места, поездить, и теперь это в ней ожило. Тем же летом 1960 года мы устроили ей путешествие на большом пароходе «Карл Маркс» до Астрахани и обратно. Поехали трое – тетя Катя, моя мама и дядя Жорж, муж их покойной старшей сестры Ксении. Старики честно соблюдали ритуал советского туризма: вылезали на всех пристанях, внимали экскурсоводам, ходили по «ленинским местам», фотографировались возле памятников, покупали открытки и сувениры. А тетя Катя еще и вела путевой дневник -- где были и что видели: ей все было интересно.
В следующие лет семь-восемь она много разъезжала -- ездила к дочери в Новый Оскол, несколько раз к нам в Москву, успела увидеть мою годовалую внучку. В Моршанск к ней постоянно прибывали ее собственные взрослые внучки, не с визитом, а надолго; она делила между ними заботу, которая прежде уходила на больного мужа. Заботиться было потребностью ее души. Еще при жизни Н.Н. его сестра как-то сказала тете Кате: «Полюби одиночество, иначе в старости будет плохо». Но тетя Катя не полюбила одиночества. В те промежутки времени, когда она оставалась в Моршанске одна, она навещала старых знакомых, ходила на встречи пенсионеров в их клуб, принимала участие в «мероприятиях», о чем сообщала нам в письмах, не без юмора рассказывая, что старухи иногда даже танцуют.
Соседи у нее были теперь другие: годом раньше Николая Николаевича умер их давний сосед и приятель, его дочь вышла замуж и переехала в Москву вместе с матерью. Свою половину дома они продали другому семейству -- ветеринарному врачу с женой и сыном. Тетя Катя и с ними ладила очень хорошо и распространяла на них свои ненавязчивые заботы. Как-то соседке потребовалась серьезная операция. Моршанск уже не был медицинским городом; сказали -- надо ехать в Тамбов. Муж соседки то ли был в отъезде, то ли не смог отлучиться с работы, -- и тетя Катя, в своем уже восьмидесятилетнем возрасте, вызвалась ее сопровождать. Добираться из Моршанск в Тамбов далеко не просто; на моей памяти Зимины никогда не ездили в свой областной центр. В Тамбове сказали, что операцию делать не обязательно, и они сразу пустились в обратный путь с пересадками, на тряских колымагах-автобусах, -- больная женщина на попечении глубокой старухи.
Единственный человек, о ком тетя Катя не заботилась, -- она сама. Ни о своем здоровье, ни о своих удобствах, ни, тем более, о своей внешности. В отличие от сестер, она и в молодости не была особенно красива. Часто рассказывала, как Маруся (моя мама), вечно окруженная поклонниками, брала ее с собой на прогулки, чтобы держать ухажеров на почтительном расстоянии, и как марусины ухажеры за это терпеть не могли ее, Катюшу, к в старости она походила на фею Берленго из «Синей птицы» -- до волшебного преображения. «Ну и страшна же я, до чего ж я страшна!» -- так она восклицала с комическим ужасом, когда ей случалось поглядеть в зеркало. Так же весело она рассказывала о случае, который произошел в Новом Осколе, когда она гостила там у дочери. Она возвращалась с речки (купанье всегда оставалось ее страстью), шла босиком, так что видны были изуродованные подагрическими наростами ступни и скрюченные пальцы ног, волосы намокли и висели прядями, спина горбатая. Повстречавшийся маленький мальчик сказал своей матери: «Мама, смотри -- ведьма идет». И тетя Катя ничуть не обиделась, только смеялась. Нужно было посмотреть ей в лицо, в глаза, чтобы увидеть, какая это добрая ведьма.
Ее обычное состояние было -- приветливость и тихая веселость. Ей хотелось, чтобы все обстояло благополучно, а о неблагополучиях она говорить не любила, предпочитала делать вид, что их нет. Ее житейская философия сводилась к тому, что все действительное разумно. Хотя этого изречения она никогда не произносила и вообще не признавала никаких отвлеченностей. Говорила с забавным недоумением: «Скажи, Нина, зачем нужна философия? Разве не все равно -- так или этак?»
Она любила читать, читала много -- но обязательно «про жизнь». Классиков тетя Катя не перечитывала и мало интересовалась историей, ей требовалось современное. Она выписала «Роман-газету» и добросовестно прочитывала каждый выпуск этого рептильного издания. Я пробовала ее убедить, что это ужасная дрянь, она только упрямо улыбалась и говорила, что не хочет отставать от жизни. Правда, из того, что она читала, ей больше нравилось не худшее, а лучшее, -- например, блокадная книга Ольги Берггольц[14] произвела на нее сильное впечатление, очень хвалила она трилогию Паустовского[15]. Но и всяких «кавалеров золотой звезды»[16] тоже принимала, -- вероятно они укрепляли ее убеждение в разумности существующего.
Общение с моими тетушками наводило меня на смешную мысль: искреннее прочих граждан преданы Советской власти бывшие воспитанницы института благородных девиц. Впрочем, к моей маме и к старшей тете Ксении это не относилось, они были политически нейтральны, но вот тетя Катя и особенно тетя Оля прочно стояли за Советскую власть. Надо сказать, характерами они были абсолютно несходны: если у Катюши начисто отсутствовал эгоизм, то Оле досталась его двойная порция, проявляясь во всем ее жизненном поведении. Она-то и была самой убежденной даже можно сказать воинствующей сторонницей социализма, коммунизма и всего такого, хотя в партии никогда не состояла и профессия у нее была внепартийная и недоходная: учительница немецкого языка. Помню, как она ожесточенно спорила на политические темы с моим отцом, при этом лицо и шея у нее покрывались багровыми пятнами. Отец мой был настроен вполне антисоветски, хотя происходил «из простых», а тетя Оля -- из потомственных дворян.
Тетя Катя в споры не ввязывалась, избегая разладов, но тоже считала, что Октябрь установил эру справедливости. Раньше были господа и рабы, хозяева и слуги, теперь все должны работать и это правильно. «… И ты, изнеженное барство, возьмешься нехотя за труд» -- этот стишок какого-то пролетарского поэта[17] дети учили в школе, он выражал суть дела (Плека называла «изнеженным барством» меня, -- я трудиться не любила). Тетя Катя не раз вспоминала, что при выборах в Государственную Думу они все голосовали за кадетов, и добавляла: «какие мы были глупые!». Настоящее должно быть лучше прошлого, так же как живое лучше мертвого, -- в это тетя Катя хотела верить, это заменяло ей веру в Бога. Всякие «отклонения», включая аресты ее родственников и друзей, она воспринимала, как бедствия стихийные, как болезни или неурожаи, -- а ко дню седьмого ноября все равно рассылала всем поздравления «с великим праздником».
Однако не так уж она была проста, как может показаться. Однажды я по традиции приехала к ней встречать Новый год, не одна, а со своим приятелем, раньше тете Кате незнакомым. Приятель был диссидент-марксист -- таких в шестидесятые годы было немало[18]. За новогодним столом мы с ним напустились на тетю Катю с диссидентскими речами, -- он высказывался особенно радикально. Тетя Катя не соглашалась, но выражала свое несогласие как-то так мягко и деликатно, что очень ему понравилась: прощаясь, он сказал: «Вы изумительная женщина» и поцеловал ей руку, чего обычно не делал.
А она, уже гораздо позже, неожиданно заметила: «А знаешь, это даже хорошо, что он так критически настроен». Я удивилась: почему же? ведь ты с ним не согласна? «А потому, -- сказала она, -- что он, значит, будет добиваться, чтобы наша жизнь стала лучше». Очевидно, и диссидентство она сочла разумным, поскольку оно существует.
Ей всегда хотелось быть в ладу с жизнью, -- даже когда жизнь обходилась с ней немилостиво, о чем я еще скажу. Но сначала -- об ее детях.
Сын ее Анатолий[19], к вопросам мировоззрения совершенно равнодушный (мой отец прозвал его, еще мальчишку, «социал-соглашателем»), после войны делал успешную служебную карьеру. Тетя Катя спрашивала у него: «Толюшка, а что ты делаешь у себя на работе?» -- он лаконично отвечал: «сижу на стуле». Сидение на стуле довело его до поста замминистра. Его высоким положением тетя Катя не только не гордилась, но как бы стыдилась и от посторонних скрывала: просто говорила «он инженер». Быть инженером, врачом, учителем, -- это она понимала и уважала, «писать об искусстве», как я -- тоже приемлемо, но быть крупным чиновником -- не укладывалось в ее понятия о достойной жизни. Но своего Толюшку она неизменно любила и не упрекала ни в чем. <…>
До конца дней тетя Катя оставалась единственным связующим звеном между всеми нами, ее родственниками, рассеянными по разным городам и, по правде говоря, имеющими между собой не много общего. Она постоянно писала всем, расспрашивала о житье-бытье, подробно рассказывала о своем, сообщала и о других, кому-то что-то передать, кого-то встретить на вокзале. (После того как тети Кати не стало, родственные узы постепенно распались). <…>
Дочь Валя[20] была совсем другого склада человек. В чем-то она походила на мать: бескорыстием, добротой, способностью забывать о себе. О себе она забывала главным образом ради общественной деятельности. Валя, родившаяся в 1912 году[21], была комсомолкой двадцатых годов, -- комсомолкой в красном платочке, беспредельно преданной. При этом у нее не было мудрой терпимости ее матери, в юности ей был свойственен почти истерический фанатизм (потом он сгладился). Как-то тетя Катя, приехав в Москву, навестила свою семнадцатилетнюю дочь в общежитии и имела неосторожность притти (устойчивое написание Дмитриевой этого слова – С.Ч.) в котиковом пальто, купленном задолго до Великого Октября, потертом, траченном молью, но все же котиковом. Что тут было! Как! ее мать ходит в мехах! значит она буржуйка! и в общежитии это видели! Валя устроила матери бурную сцену со слезами и криками. Мне об этом рассказывали спустя несколько лет, но я и сама бывала свидетелем Валиной идеологической непримиримости. Вот мы сидим за столом, в Моршанске или в Москве, мирно беседуем о том о сем -- и вдруг кто-то, чаще всего мой папа, а то и дядя Коля, отпускает то ли шуточку, то ли замечание, в котором Вале слышится идеологическая вредность. Она нервничает, повышает тон, в голосе слезы, -- кончается тем, что она швыряет ложку, вилку, вскакивает из-за стола и уходит. Такие вспышки у нее случались исключительно на идейной почве, а в обиходе она была мягка и заботлива почти как ее мама, и не проявляла ни малейшей склонности вздорить из-за житейских мелочей.
Надо ли удивляться, что Валя активно участвовала в раскулачивании и коллективизации, видя в том свой святой долг. Она окончила Тимирязевскую академию, работала агрономом, преподавала в сельскохозяйственных техникумах, но комсомольскую, а потом партийную работу ставила превыше всего. Педагог Валя была хороший. Во время войны она в Моршанске прочитала курс лекций, я слушала две или три: она прекрасно излагала, ясно и доступно. Я до сих пор помню, что такое молочная, восковая и полная спелость зерновых культур.
При всей своей идейности, Валя, в отличие от безыдейного брата, не сделала никакой карьеры: так и оставалась скромным рядовым работником в разных отдаленных местах, в Сыктывкаре, в Буденном, в Новом Осколе.
Замуж вышла, конечно, за товарища по работе[22]. Этот товарищ, <…> гораздо более амбициозный, чем Валя, по партийной линии продвинулся дальше, однако большим начальником не стал В 37 или 38 году его исключали из партии -- нашли у него брошюру Троцкого. <…> Через несколько месяцев его в партии восстановили, и он опять стал идеологически безупречен, но, видимо, этот эпизод ему все-таки повредил.
Валю он любил, то есть дорожил ее преданностью. Но не одобрял ее чрезмерного рвения в общественной деятельности. «Что такое, -- жаловался он мне, -- все ей чего-нибудь поручают, а она все выполняет. Какой-нибудь пацан пионер придет, и тоже: Валя, я тебе поручаю... <…>
Валя <…> родила трех дочерей[23]; подрастая, девочки разъезжались учиться кто куда и подолгу гостили у бабушки. <…>
Лида, средняя, получив медицинское образование, добилась назначения на работу в Моршанск и поселилась у тети Кати на совсем. <…>
Потом у Лиды родился сын, а через два года другой, <…> Семья продолжала увеличиваться <…> было решено: ее возьмет к себе Валя. <…> Анатолий приехал за матерью в Моршанск на машине, чтобы отвезти ее в Новый Оскол. Сопровождать вызвалась старшая внучка тети Кати Галя, жившая аж в Красноярске. <…>
Она явно почувствовала большое облегчение, перебравшись к дочери. Опять стала писать нам часто, вспоминая прошлое, интересуясь всеми подробностями нашей жизни и рассказывая о своей, которая теперь сводилась к тому, что она сидит и читает книги, приносимые из библиотеки Валей и Алексеем, а «ноги не ходят, глаза не видят, уши не слышат». <…> Очень беспокоилась о здоровье «моей дорогой сестрички Маруси», перенесшей несколько инсультов, не могшей уже ни читать, ни писать. А тетя Катя, несмотря на возраст и немощи, поглощала книги одну за другой, сохранила превосходную память и юмор, писала безукоризненно, -- только ее изящный почерк стал неровным, прыгающим. <…>
Тетя Катя прожила в Осколе два года и скончалась в возрасте 93 лет. <…>
Мне иногда представляется, что ее послали на землю с какой-то ангелической миссией: помогать, заботиться, никого не судить, никогда не жаловаться и таить свое посланничество под маской простоватости. Еe упорное незамечание зла могло казаться глупостью, юродством: ведь зло так очевидно. Но и тут был некий умысел.
Мне случалось разговаривать с тетей Катей с глазу на глаз, по душам, и по некоторым ее мимоходом оброненным репликам я с удивлением замечала, что она разбирается в людях лучше, чем я думала. Она понимала, кто есть кто, но сохраняла это понимание про себя, не давая ему ни в чем проявляться, распространяла любовь на всех близких, не делая различия. Про себя она знала им подлинную цену <…>, но ни разу не произнесла ни единого осуждающего слова, только слова любви. <…>
Если не вспоминать о евангельских заповедях, такая надличная доброта непостижима. Я читала Евангелие, но мне все равно непонятно (потому что недоступно), как можно не браниться с тем, кто поступает наперекор, не злиться на тех, кто обидел, не отзываться плохо о тех, кто не нравится и не злословить вообще ни о ком. А вот она могла.
Я не знаю, как тетя Катя относилась к учению Христа, когда воспитывалась в институте, где преподавали Закон Божий и не садились за стол без обязательной молитвы. Но с тех пор, как я начала ее помнить, она не только не молилась, но была полностью вне религии и никогда этой темы не касалась. Был такой мелкий случай: я, разменяв пятый десяток, решила, что я слишком уже стара, чтобы отмечать свои дни рожденья, и просила отныне поздравлять меня только с именинами -- с днем ангела. Тетя Катя мою глуповатую просьбу исполнила и писала так: «поздравляю тебя с днем твоего имени». Я ее поправляла: что это еще за день имени? такого нет, надо говорить «с днем ангела». Но тут она не послушалась, как будто само слово «ангел» было для нее под запретом. А ведь она, одна из немногих, кого я знала, жила по ангельскому уставу. (Были и другие, но – верующие).
Мне жаль, что я мало знаю о детстве и юности моих отца и матери и моих крестных родителей, об их жизни «до меня». Молодых не очень интересует прошлое их ближайших «предков»: они заняты своим настоящим. Интерес к прошлому приходит на склоне лет, когда расспросить уже некого: предки или умерли, или все перезабыли. А у тети Кати память была отличная, она бы многое могла рассказать. <…>
Хотела ли она мне что-то поведать, чувствуя приближение смерти, когда звала приехать в Новый Оскол? или просто хотела на меня посмотреть напоследок? -- я уже не узнаю.
Валя пережила свою мать всего на 10 лет, хотя была человеком здоровым и крепким. Она тоже старалась поддерживать родственные связи, но не умела писать длинных обстоятельных писем, как тетя Катя, -- только присылала открытки ко всем праздникам. Примерно раз в год наведывалась в Москву, останавливалась всегда у меня <…>. Ее прежний идеологический запал давно выветрился, теперь она и сама позволяла себе кое-какие критические высказывания и благосклонно смеясь слушала анекдоты о Брежневе. Но вера в «основные принципы» сидела в ней глубоко. Черты характера матери -- мягкость, заботливость, незлобивость -- проступали у Вали все заметнее по мере старения. <…>
В Москве Валя закупала продукты и промтовары и для своей семьи, и для соседей; всякий раз уезжала нагруженная, как ломовая лошадь. Так же было и в ее последний приезд, в 1987 году. В свои 75 лет она была неутомима и на удивление вынослива. Накупила столько всего, что я попросила свою невестку проводить ее с вещами на вокзал, -- мне такие подвиги были уже не под силу.
Как раз в дни Валиного визита происходили выборы -- последние выборы по старинке, то есть с голосованием за одного кандидата. Я много лет на выборы не ходила, не собиралась и теперь, тем более что и агитаторы больше не бегали по домам в погоне за избирателями. Но Валя уговаривала меня с мягкой, как бы извиняющейся улыбкой, так долго и настойчиво, что я сдалась, и мы с ней поздно вечером пошли на избирательный участок (она с открепительным талоном) и проголосовали «единогласно за». Дома, одни в квартире, мы беседовали на темы «перестройки», которая тогда только начинала разворачиваться и заметнее всего сказывалась в содержании и тоне журнальных статей, -- разоблачения греховного прошлого нарастали день ото дня. Валя за печатью следила и, по-видимому, была не против перестройки, как таковой Она упомянула в разговоре, что какой-то крупный имя рек служил, оказывается, в царской охранке. Я заметила, что по некоторым сведениям и Сталин был повинен в том же. Вот это Валю сразило. Она, конечно, давно знала об «ошибках» вождя, но чтобы так... Значит, все было ложью с самого начала?.. «В это я не могу поверить», -- сказала она упавшим голосом.
Болезненно переживала она разоблачения, касавшиеся биологической науки -- судьба Вавилова, роль Лысенко, пересмотр мичуринского учения и так далее. А также все, что относилось к коллективизации. Это ее непосредственно касалось: она и коллективизацию проводила, и, вероятно, идеи Лысенко внедряла, и боролась с менделизмом-морганизмом, а что же оказывалось на поверку? Валя была не из породы флюгеров, которым все равно и гори оно ясным пламенем. Нет, она не порицала журналистов-разоблачителей, не говорила: «они все врут». Скорее всего, она им верила, как вообще привыкла верить печатному слову. Но вот это-то и было для нее ударом.
Я забыла сказать, что ребенком пяти-шести лет Валя, несмотря на пассивный атеизм родителей, верила в Бога. Ее и Толю водила набожная в церковь соседка. Толе в церкви было скучно, и он после первого же раза отстал, а Валю богослужение очаровало, и она истово молилась. Однажды особенно горячо помолилась о выполнении какого-то своего заветного желания, -- оно не исполнилось и Валина вера была поколеблена. А после, в школе и в комсомоле, ей предложили другую веру, и она приняла ее всей своей доверчивой душой, отдалась ей всецело. Тут проверка истинности затянулась на многие десятилетия. То, что стало открываться в восьмидесятые годы, было для Вали подобием того разочарования в благости Бога, которое она пережила в детстве. Нo теперь отрекаться было поздно -- позади целая жизнь.
В открытке, присланной вскоре после последнего Валиного приезда, содержалось сообщение о благополучном прибытии домой, стандартные пожелания здоровья, а в конце -- приписка: «Читаешь ли ты «Огонек»? Мы читаем». Я читала «Огонек»: там как раз в это время шла серия статей, посвященных былым безобразиям в биологии и сельском хозяйстве. <…>
У нее было что-то вроде скоротечного рака <…> она болела и умерла в полном сознании, знала, что умирает и сделала распоряжения относительно похорон: наказала обить гроб и покрыть надгробие красной материей. Комсомолка двадцатых годов решила умереть, как жила -- под алыми знаменам <…>
Муж <…> говорил, что Валя совершила предательство, оставив его без своих попечений. <…>
Впрочем, -- о «ныне здравствующих» говорить не следует: их узлы еще не развязаны. Мои воспоминания -- поминки по ушедшим. Они были кроткими людьми. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
_______________________________
[1] В Моршанском художественно-историческом музее представлена экспозиция, посвящённая жизни и деятельности Николая Николаевича Зимина (14.08.1883-27.12.1959), выдающегося детского врача, основателя детской медицины в Моршанске и Моршанском районе, заведующего детской амбулаторией (до 1958), преподавателя городской фельдшерско-акушерской школы. В состав экспозиции включены исторические фотографии, газетные статьи, орденские и другие наградные книжки, а также сам Орден Ленина, переданный в музей, Л. Кутаевой, внучкой знаменитого врача. После Великой Отечественной войны центральная улица города, где стоял дом Зиминых, непродолжительное время носила его имя.
[2]Екатерина Васильевна Зимина, урожденная Петрова (1886-1978) окончила Московский институт Императора Николая I (благородных девиц) с золотой медалью, утверждена. в звании «домашнего учителя», а также Московский заочный педагогический институт новых языков с получением звания «учитель средней школы», преподавала в моршанской школе.
[3] Ольга Васильевна Петрова (1882 – 1965) -- преподаватель немецкого языка. Похоронена на Пятницком кладбище Москвы в семейной могиле Дмитриевых, где покоятся Н. А. Дмитриева (!917 – 2003 и ее родители: М. В. Дмитриева, урожденная. Петрова (1884 -- 1980), и А. Е. Дмитриев (1883 --1945)
[4] Петр Петрович Иванов (1886 –1942) -- археолог-самоучка, художник и краевед, основавший в 1918 году Моршанский историко-художественный музей. Это первый уездный провинциальный музей, открытый в первый год советской власти. В его основе коллекция, которую П. П. Иванов собирал в течение 15 лет, его фонды поначалу насчитывали более 2000 предметов из личного собрания Петра Петровича и лишь 144, переданных различными лицами и организациями. В музее хранятся множество тысяч экспонатов. Площадь музея 1400 кв. м. В состав музея входят художественный и палеонтологический отделы, отдел советского периода истории и отдел «Дореволюционное прошлое Моршанского края». Коллекции древнемордовских могильников VIII—XI веков. Вторая в России по величине и качеству коллекция древнерусской деревянной скульптуры. В настоящее время Музей является ведущим научно-просветительским центром не только в Тамбовской области, но и в Российской Федерации.
[5] Пётр Николаевич Зимин (1873 -1947) -- врач-гинеколог в моршанской городской больнице.
[6] Михаил Васильевич Зимин (1884 -?) -- врач, был репрессирован в 1929 году (дальнейших сведений о нем нет), в это время в Моршанске пытался скрыться от гонений его отец Василий Васильевич Зимин (1853-1930), протоиерей, настоятель Покровской церкви Рязанской епархии
[7] Алексей Николаевич Зимин (1871 -1934) -- профессор, заведующий кафедрой ЛОР-болезней Томского государственного университета
[8] Пожарова Мария Андреевна (1884—1959) -- поэтесса, чьи стихи для детей были отмечены вниманием В.Я. Брюсова, И.Ф. Анненского, Н. С. Гумилева и др., автор около 20 детских сборников, издаваемых при жизни (начиная с 1910 года) и в нынешнее время.
[9] Фёдоров-Давыдов Александр Александрович (1875—1936) — детский писатель, редактор, издатель, переводчик, написал 125 книг для детей и множество заметок, статей, очерков. Перевел сказки Гримма (1900), Андерсена (1907), в 1908 году выпустил собрание русских народных сказок
[10] Фёдоров-Давыдов Алексей Александрович (1900 — 1969) — искусствовед, историк русского и советского искусства и архитектуры, член-корреспондент Академии художеств СССР (с 1958 года), заслуженный деятель искусств РСФСР (с 1960 года), в 1929-1934 гг. зав. отделом нового рус. искусства Третьяковской галереи. Преподавал в МГУ (1927-1931,1944 -1966 с 1948), Текстильном институте (1934-44), зав. научно-исслед. сектором ВГИКа (1934-1937), профессор там же (1943-1944), зав. кафедрой в Академии обществ. наук при ЦК КПСС (1948-1956). Выступал с художественно-критическими статьями по актуальным вопросам советской культуры. Награжден двумя орденами, а также медалями
[11] Панина Варвара Васильевна (1872 — 1911) — известная исполнительница цыганских песен и романсов. Была знаменита сильным низким контральто и особой манерой пения
13 Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871-1913)--русская эстрадная певица, исполнительница русских и «цыганских» романсов, артистка оперетты.
[13] Сабинин ( наст. фам. Собакин) Владимир Александрович (1885 -1930) — артист оперы (лирико-драм. тенор), оперетты и камерный певец
[14] Берггольц Ольга Федоровна (1910 – 1975) – писатель, поэт, драматург, журналист, с 3 июля 1941 по 10 июня 1944 вела дневник в блокадном Ленинграде: «Ленинградский дневник» Л., ГИХЛ, 1944
[15] Паустовский Константин Георгиевич (1892 –1968) – писатель, сценарист, педагог, журналист, военный корреспондент. В 1945—1963 годах он писал одно из своих главных произведений — автобиографическую «Повесть о жизни», состоящую из трёх книг: «Далёкие годы», «Беспокойная юность» и «Начало неведомого века». В них описывается его жизнь до 1921 года.
[16] Бабаевский Семен Петрович (1909--2000) --писатель, журналист, специальный корреспондент, мемуарист. Член ВКП(б) с 1939 года Лауреат трёх Сталинских премий (1949, 1950,1951) за роман «Кавалер Золотой Звезды» (1948) и за его продолжение --1-ю книгу романа «Свет над землёй» (1949), 2-ю книгу романа «Свет над землёй» (1950)
[17] Из стихотворения «Падет презренное тиранство…», написанного между 1857 -61 годами Иваном Саввичем Никитиным (1824—1861), автором широко известных стихотворений, ставших народными песнями. И.С. Никитин был сыном воронежского купца, владельца свечного заводика, учился в семинарии, но вынужден был ее бросить и содержать вместе с разорившимся отцом постоялый двор. Иван рано начал писать стихи, но только в 1853 году отважился опубликовать в газете «Воронежские губернские ведомости» стихотворение «Русь», обеспечившее ему доступ в столичные издания. Незадолго до смерти (он умер от туберкулеза в 37 лет) открыл книжный магазин и при нем библиотеку
[18] Шрагин Борис Иосифович (1926—1990) -- философ, публицист, парторг сектора эстетики ИИИ (1960-8), в котором работала и Н.А. Дмитриева. Уволен за правозащитную деятельность. В 1974 г. эмигрировал в США, преподавал в вузах Бостона и Нью Йорка
[19] Зимин Анатолий Николаевич (1912—1999) --заместитель министра мелиорации водного хозяйства СССР
[20] Зимина (Борисова) Валентина Николаевна (1911-1988) после окончания Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева работала агрономом и преподавала в сельскохозяйственных техникумах в разных районах СССР, последнее место работы –Новый Оскол
[21] На всех архивных сайтах год ее рождения -- 1911
[22] Борисов Алексей Гаврилович (1907 --1994) -- офицер НКВД, преподаватель. Последнее перед пенсией место работы -- директор Ново-Оскольского сельскохозяйственного техникума.
[23] Борисова Галина Алексеевна 1936 г.р. -- старший преподаватель кафедры германо-романской филологии Красноярского гос. педагогического университета имени В.П. Астафьева;
Борисова (Кутаева) Лидия Алексеевна 1940 г. р, --врач детской больницы, организатор развития медицины в детских дошкольных учреждениях г. Моршанска
Борисова (Короленко) Елена Алексеевна 1943 г.р.—предприниматель в Белоруссии.